#дайте жалобную книгу
Explore tagged Tumblr posts
Text
Печать печали....
Бывают лица, на которых будто уже от рождения наложена вуаль тяжёлой и грустной судьбы.
Вот Татьяна Гаврилова - классический пример такого знака.
Она закончила ВГИК в группе Герасимова и Макаровой, сниматься начала ещё студенткой, потом тридцать лет работала в Театре киноактёра.

Татьяна Гаврилова в фильме "Люди и звери" (1962)
Герасимов снимал её в своей картине "Люди и звери" - небольшая роль русской эмигрантки в Аргентине, богатой сеньоры. Она пишет картины, будучи, по словам её дяди, "бездарной как лошадь". Влюбилась в своего лакея-водителя, но он обиделся на неё за ругательный отзыв об СССР - и бросил. Была Таня хамоватой официанткой в рязановской картине "Дайте жалобную книгу", - классическая физиономия с наглыми круглыми глазами из серии "вас много - я одна!" припоминается без труда.

Татьяна Гаврилова в фильме "Дайте жалобную книгу" (1965)
А как прекрасна она в своём амплуа отрицательной героини, когда лупит Андрея Миронова за его слова, что жениться следует на сироте! В фильме "Берегись автомобиля" все упивались тем, как органично вписалась она в образ мещанки, у которой и муж-то жулик, и отец хапуга.

Татьяна Гаврилова в фильме "Берегись автомобиля" (1966)
Разумеется, Эльдар Александрович позже с удовольствием пригласил её на роль бездомной пьянчужки в свои "Небеса обетованные", а в картине "Забытая мелодия для флейты" она мелькнула в роли городничихи на сцене самодеятельного театра. На роль управдомши в "Бриллиантовой руке" Таня тоже пробовалась, но великолепная Мордюкова оттеснила её безоговорочно.

Татьяна Гаврилова в фильме "Калина красная" (1973)
А вот что удалось ей лучше всего, так это Люсьен из фильма Шукшина "Калина красная". Образ настолько яркий и безупречный, что никакие другие персонажи тут просто и рядом не стояли. Испитое лицо, злые глаза, тонкие кривящиеся губы, развязные повадки - просто идеальная бандитская "маруха".
Были в её актёрской биографии и другие эпизодические роли. И даже если её героини являлись примерными комсомолками, то всё равно в исполнении Гавриловой будто становились они хуже, порочнее. Как бы ни старалась актриса явить миру святую праведность, а коварный злющий чёртик выскакивал то и дело. Взгляд ли, циничный и равнодушный, был тому причиной, выражение лица, кривая улыбка, - всё вместе создавало что-то неприятное, отталкивающее.
Она любила режиссёра Худякова, дважды приглашала его на бракосочетание, и оба раза он жениться не пришёл. Пошутил, передумал, обиделся - да неважно, просто не явился. По извечной традиции неуравновешенных и истеричных дам Татьяна стала заливать горе алкоголем.

Татьяна Гаврилова в фильме "Визит дамы" (1989)
Потом она всё-таки была замужем - за художником Эдуардом Курочкиным. Вместе пили, вместе пели про злых людей и несправедливую судьбу. Он - непризнанный гений, она - великая актриса, оба по достоинству не оценены современниками, ну всё как обычно. Часто компанию им составляла актриса Изольда Извицкая, тоже потом закончившая свои дни в хмельном угаре.
Потом грянули 90-е, потом Татьяна перенесла полостную операцию, после чего врачи пить не велели категорически. Но что такое какие-то глупые лекаришки для гениальной актрисы? Вскоре свалилась актриса с инсультом, а позже похмельный супруг сдал её в психушку. Не сам же он будет ухаживать, ему некогда, он пишет уникальные картины в стиле авангардизм.

Татьяна Гаврилова в фильме "Небеса обетованные" (1991)
Актриса Лариса Лужина однажды навестила Татьяну в скорбном заведении и поразилась, - сидит в инвалидном кресле лысая беззубая старушка, никого не узнаёт. А ей даже не было шестидесяти.
Потом она тихо умерла, о кончине её узнала актёрская братия совершенно случайно...
Печальная судьба...
26 notes
·
View notes
Text
- Рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Полная задора и огня?..
- Спиши слова!
Фильм «Дайте жалобную книгу», 1964
2 notes
·
View notes
Video
Дайте жалобную книгу - комедия СССР 1964 Олег Борисов, Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов
Ресторан "Одуванчик" пользовался дурной славой. В нем было грязно, готовили мерзко, а персонал норовил нахамить. Журналисту Юрию Никитину и его друзьям удается помочь директору ресторана Татьяне Шумовой превратить "Одуванчик" в образцовое молодежное кафе.
#комедия #мелодрама #сатира #киноклассика
Выпущено: СССР, Мосфильм Режиссер: Эльдар Рязанов В ролях: Олег Борисов, Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов, Анатолий Папанов, Николай Крючков, Николай Парфёнов, Рина Зелёная, Зоя Исаева, Евгений Моргунов, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Михаил Пуговкин, Эльдар Рязанов
0 notes
Video
Дайте жалобную книгу - комедия СССР 1964 Олег Борисов, Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов
Ресторан "Одуванчик" пользовался дурной славой. В нем было грязно, готовили мерзко, а персонал норовил нахамить. Журналисту Юрию Никитину и его друзьям удается помочь директору ресторана Татьяне Шумовой превратить "Одуванчик" в образцовое молодежное кафе.
#комедия #мелодрама #сатира #киноклассика
Выпущено: СССР, Мосфильм Режиссер: Эльдар Рязанов В ролях: Олег Борисов, Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов, Анатолий Папанов, Николай Крючков, Николай Парфёнов, Рина Зелёная, Зоя Исаева, Евгений Моргунов, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Михаил Пуговкин, Эльдар Рязанов
0 notes
Photo




That LOOK ™
#олег борисов#лариса голубкина#георгий вицин#евгений моргунов#юрий никулин#эльдар рязанов#дайте жалобную книгу#soviet cinema
4 notes
·
View notes
Text
Саранча

No tocarse nunca
les duele lo mismo
que no poderse separar.
LÍNEAS PARALELAS, Karmelo C. Iribarren
Открыв дверь, они неуютно переглядываются. Слюна с тяжёлым звуком толкается в глотку.
В номере две кровати. Стоят аккуратно заправленные по разным углам.
Ван Ибо плюхается на свою практически с разбега. Кровать мягко пружинит и остаётся невозмутимо стоять на своём месте.
— Крепкая, — невесело оповещает он. — Сейчас таких уже не делают. Зато никаких сюрпризов, не сломается.
Юра морщится, берет разгон побольше и запрыгивает на свою. Пружины жалобно стонут. Он широко раскидывает руки и прислушивается.
— Матрас отличный. Жёсткий.
— Угу, — вяло соглашается Ван Ибо, оглядывая лучший номер из всех, где им довелось побывать, и сквозь зубы: — Наконец, повезло.
Термостат исправно работает и показывает комфортные плюс двадцать три градуса. Постель чистая, хрустящая и пахнет стиральным порошком.
«Фашисты проклятые», — с ненавистью думает Юра. — «Всё-то у них не как у людей».
Со стороны Ван Ибо доносится короткий визг молнии и шелест. Плисецкий приоткрывает один глаз, чтобы убедиться: он действительно распаковывает свои вещи и расставляет какое-то барахло на прикроватной тумбочке. У своей собственной отдельной кровати. Плисецкий подавляет желание тяжело вздохнуть и закрывает глаз обратно.
«Не судьба, наверное», — понимает он. — «Если б ещё раз вместе спать, он бы как-то придумал. Ногу там всунуть, типа случайно. А так — без шансов. Как такое скажешь? А тут вроде можно сказать, если вдруг что, прости, братан, Акелла промахнулся, задремал, ничего такого, недружеского, я не планировал».
— Боже правый, до чего убедительно все это звучит, Плисецкий, — раздаётся в голове голос Никифорова и немедленно посылается к хуям собачьим. Потому что это вообще не его дело, не его тело и не его китаец.
Куда ж без него, вечно лезет в башку, когда не звали. Ладно, сейчас он это хотя про себя, а в тот раз вообще какой-то зашквар вышел. Ван Ибо сказал:
— Хочу у лучших учиться.
А Юра возьми и ляпни:
— Лучший — это Никифоров, хотя бы количественно.
— Хуй там, — возразил Ван Ибо. — Новый мировой рекорд-то у тебя
— Ну, у меня, — согласился Юра, а сам подумал: «надолго ли?».
— Надолго.
— А?
— Рекорд, говорю, твой надолго.
Он тогда так и завис с лицом самой тупой в мире рыбы. Он знает, потому что Ван Ибо отошел в сторону, а Юрка продолжил смотреть перед собой. Из отражения витрины на него таращился какой-то мелкий туповатый пиздюк с глупо приоткрытым ртом. Он стряхнул с себя эту физиономию и спросил:
— Тебе-то откуда знать?
Ван Ибо улыбнулся и сощурился на вездесущее злое солнце.
— Видел мемас «я не договорила»? От тебя такой же вайб был в тот раз. Ты как будто вообще берегов не видишь.
«Да, крыло меня будь здоров», — подумал он тогда. И в общем-то, китаец был прав. Он только начинал входить во вкус.
— Ну, что? — спросил Ибо. — Будешь меня учить?
— Посмотрим, что ты умеешь.
Умел он отборное нихуя, но тренил так, что Юра очень быстро перестал стебаться. Схватывал всё буквально с пол-оборота. Слушал внимательно и вообще не ныл.
— Как ощущения? — поинтересовался Юра не без удовольствия, когда они возвращались в отель.
Он гонял китайца весь день. От души. С ненавистью, как будто тот лично был виноват во всех Юркиных несчастьях. Юра его не жалел, считал, что так правильно.
«Если не вывозишь мой темп, ищи себе кого-то попроще, лошара. Нечего жаловаться».
Хотя китаец больше был похож на того, кто начал бы выёбываться типа «я за что столько бабок отвалил, дайте жалобную книгу».
— Как будто по мне проехал товарняк, — честно ответил Ибо. — Спасибо, что спросил.
Плисецкий собирался ��казать, что завтра такая же треня будет, и если ему тяжеловато или что-то не нравится, то пусть валит к хуям, но передумал. У самого ноги отваливались, и ныла спина, что уж с китайца взять. Который, кстати, ни разу не захныкал и не попросил перерыва, вдруг осознал он.
Почему-то сделалось очень стыдно.
— Завтра по лайту покатаем, — пообещал он и зыркнул из-под чёлки, чтоб не заметил.
— Спасибо, Юра. Новость охуенная. Я почти воскрес.
Плисецкий фыркнул.
— Это только на завтра, я тебе спуску не дам, понял?
— Понял, — и через минуту. — Спасибо.
То-то же. То-то же.
Они тогда в такой запаре были, что заселялись вообще не глядя: буквально закинули сумки в прихожую, умылись и поехали на каток. С тренировки тащились глубокой ночью, вымотанные настолько, что даже пособачиться сил не было.
Ван Ибо рухнул на кровать первым. Вытянулся в позе звезды, компартия могла бы гордиться. Плисецкий желал того же, но кровать, как оказалось, была одна.
Он рухнул на неё рядом лицом вниз и пробубнел:
— Я не пойду сраться на ресепшн, ты иди.
Ван Ибо повернул голову и совершенно незамутнённо спросил:
— Про что сраться?
Плисецкий аж немного воспрял духом:
— Ты правда не замечаешь проблемы?
Ван Ибо неопределённо пожал плечами и, поморщившись, вернулся в позу трупа.
— Хорошо, долбонавта кусок, я тебе подскажу. Ты где спать будешь?
— Здесь.
— Хорошо, а я?
Ван Ибо приподнял голову и повертел ей в поисках ещё одной кровати, но её, конечно, не было.
— Ну, и ты здесь? — предложил он. — Места вроде хватает.
— Зашквар какой-то.
— Почему зашквар? — удивился Ван Ибо. — Ты вроде симпатичный, — добавил он и заржал своим дебильным гоблинским смехом, Плисецкий двинул ему с локтя — и тот захрипел что-то нечленораздельное.
— Эй, бешеный, — простонал он, откряхтевшись. — На респешене сейчас никого нет. Ты видел, когда проходили. А даже если есть, переселяться это геморрой минимум на полчаса, но поскольку мы на Кубе, считай, на час. Уверен, что готов?
Плисецкий не был уверен, что способен дотащить своё тело до душа, чо уж там переселяться. Джетлаг явно давал о себе знать.
— Я завтра решу вопрос, лады?
— Лады, — пробубнел Юра, спать хотелось просто зверски.
Ван Ибо действительно решил вопрос утром.
Когда Юра проснулся, в номере он был о��ин. Вещей Ван Ибо тоже нигде не было. Он немного послонялся, проверяя шкафы и свои сумки, затем отправился чистить зубы. У зеркала в ванной он обнаружил записку с подписью: «520, WYB». По всему выходило, что Ван Ибо переехал в другой номер.
Вообще-то это было действительно круто и очень по-пацански. То, как он разрулил это всё по высшему разряду. Вот только вместо благодарности Плисецкий почему-то почувствовал, что его предали. Он потом ещё долго не понимал, почему его это тогда так выбесило.
Ходил и залупался на всё подряд с утроенной силой, а потом становилось стыдно, а потом и это тоже бесило, потому что какого хера. Ван Ибо, казалось, заметил, но спрашивать ничего не стал.
Юра неохотно поднимается с кровати и идёт с инспекцией на балкон. Открытый и узкий. Холодильник и стоптанные тапочки на такой не поставишь. Два стула и микростолик занимают всё свободное пространство. Плисецкий пинает носком кеда сухие трупы насекомых через прутья решётки, и свешивается посмотреть, как летят. Чуть быстрее, чем летели бы листья, а так не отличишь.
— Мы здесь сколько? Неделю? — Ван Ибо вырастает у него за спиной так неожиданно, что Плисецкий чуть не подпрыгивает, заебал уже подкрадываться, что за человек. — Странно, что мы их так ни разу и не видели.
— Здесь-то шансы повыше. Природа, — веско замечает Юра. — От городов далеко, так что самое место, если ты вдруг мечтал, — он упирается в железные прутья локтями и тут же прикусывает язык, запоздало понимая, что Ван Ибо как раз был бы рад, если бы всё так и осталось.
— Не баись, — пытается он по-быстрому исправить положение, — я, если что, тебя прикрою.
Юрка точно знает, что прикроет. Знает также, что готов обоссаться от одной мысли. Потому что он, в отличие от Ван Ибо, все ролики смотрел с открытыми глазами.
Когда он возвращается в номер, Ван Ибо ловко выпутывается из футболки, каким-то образом оставаясь уже в одних трусах:
— Я первый в душ.
— Какого хера? — только и успевает возмутиться Юра, имея в виду вообще всё накопленное разочарование за день.
Ван Ибо запускает в него своей футболкой и резво скрывается за дверью, проворачивая чудесный немецкий замок на два скорых оборота.
«Вот долбонавта кусок», — неопределённо думает Юра, зачем-то сминая его влажную футболку в рука��.
Они пёрлись в этот отель два добрых часа. Вернее, злых, потому что в гору. Путеводитель обещал отличный вид на Нойшванштайн. Чего путеводитель не обещал, так это что на протяжении двух часов единственный отличный вид, который тебе светит, — это крепкая китайская жопа товарища, который уверенно будет переть по узкой дорожке впереди, не замедляясь ни на секунду. Беспощадно палящее солнце выжрало из Юры последние остатки самоуважения. Он вспотел как свинья и устал как собака. А этот. Китайское физиологическое чудо, блин. Даже не запыхался.
Футболка в его руках едва влажная. Пиздец, нация сверхлюдей. Угораздило же.
Юра пару раз дёргает ногой, с удовольствием проезжаясь носком кеда по слегка потрёпанному ковролину и малодушно радуясь тому, что хоть что-то в этом номере выглядит всрато. Шум воды из ванной перестаёт звучать ровно, и начинает перемежаться со всплесками и фоновым журчанием.
«Да неужели, наконец, его величество соизволило мыться. Дрочил там что ли», — Плисецкий нервно сглатывает и снова пялится на футболку.
Почему-то снова вспоминается Куба. И то, каким здоровенным тогда показался Ван Ибо. Просто пиздец. Стоял весь такой в солнцезащитных очках, наряд какой-то бомжеватый на Юркин вкус, футболка гавайская, но этому было к лицу. Оглядывал стоянку поверх очков, прослеживая Юркин взгляд.
— Переживёшь, если возьмём что-то постарше пятьдесят девятого года?
Так спрашивал, что захотелось втащить. Так ставят вопрос, чтобы не возражали.
— Чо так? — Юра надул из жвачки огромный пузырь и громко лопнул, с вызовом пялясь сверху вниз, чо здоровый-то такой, реально. Он думал, все азиаты должны быть коротышками.
— Небезопасно.
— На механике что ль не умеешь? — заржал он, тяжело было не выёбываться, потому что этот явно собирался тут что-то из ��ебя строить, Юрка такое за версту чуял и, мягко говоря, не приветствовал.
Ван Ибо кивнул на сидения и сказал:
— Подголовников нет.
— А ты я смотрю нежный дохуя? Я-то как-нибудь переживу. Ты просто в наших жигулях не рассекал в девяностые.
Ван Ибо наконец развернулся к нему, молча устроил свою здоровенную ладонь на шее, продолжая осматривать парковку, — Плисецкий практически подавился жвачкой от неожиданности — и очень медленно произнёс:
— Физику учил?
Плисецкий охренел настолько, что оказался неспособен даже просто промычать.
— При аварийном торможении или столкновении тебя сначала швырнет вперёд, — Ван Ибо легко подтолкнул его голову вперёд, — где ты встретишься с приборной панелью, а потом швырнет назад с той же силой.
Ван Ибо приподнял его лицо за подбородок и легко подтолкнул обратно в ладонь, затылком Юрка чувствовал пальцы на линии роста волос, и немного выше, сглатывал сухим горлом, у него тогда на теле дыбом стояло просто всё, внизу живота зазмеилось что-то горячее и злое.
— Если у кресла есть подголовник, то тебя ещё немного помотает, но если его нет, — он медленно опустил руку ниже, остановившись у самого основания, и продолжая давить за подбородок назад, — твоя бледная тощая шея переломится ровно по линии плеч. Вот здесь. Представил?
Юрка представил. Презентация что надо. Наглядная. Ван Ибо уже убрал руку от его лица, но на нижней губе всё ещё отчётливо жёгся след его невесомого прикосновения.
— Я слышал, фигуристам голова не нужна, но...
Тогда-то Юрка неуютно залип в первый раз. Китаец бесил самым дежурным образом, но тайно от себя он всё же подумал, что вот это было внатуре охуенно. То есть. Им в школе давали физику, но так уныло, что ему даже не приходило в голову стараться, потому что нахуя. В учёные он не стремился, поступать на физмат тоже. Его жалели. Сраную тройку для него никому не было жалко. В классе были задроты, которые с пеной у рта что-то обсуждали на переменах, и это тоже было скучно. Какое-то задротство ради задротства. Юрка не осуждал, но. Но то, что сейчас показал китаец, это... Это неожиданным образом впечатляло. Не какая-то там хуйня в вакууме, а нормальная жизненная штука. В хозяйстве, как говорится, пригодилась бы.
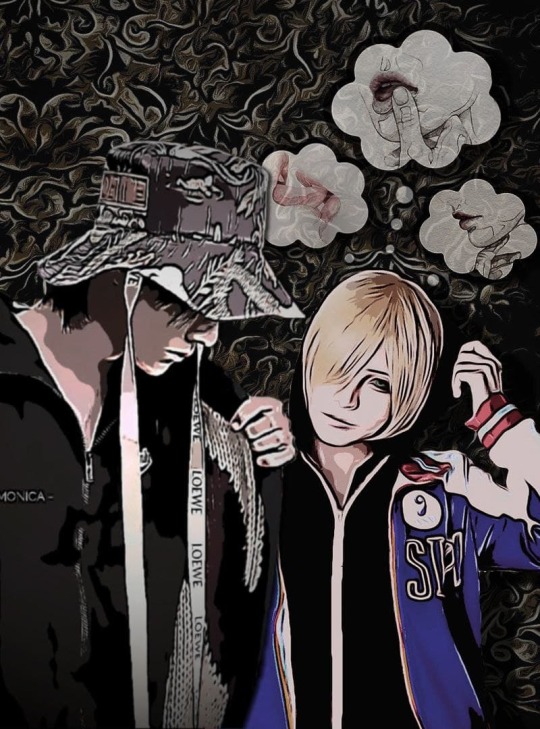
Он для себя как-то так объяснил, почему сразу не двинул с ноги. Опомнившись, стряхнул с себя его руку и спросил:
— Настолько хуёво водишь, что без аварий никак?
— Не всё от меня зависит, — пожал плечами Ван Ибо, и Плисецкий на секунду почувствовал себя непроходимо тупым. — Так что? Решай.
— А чо я-то? — удивился он. — Ты водитель, мне похуй вообще.
Ван Ибо кивнул. И взял вполне себе современную бэху, которая на улицах Кубы выглядела почти инопланетной.
— Что-то ты тащишься как старпёр, только тачку позоришь.
Ван Ибо тогда впервые как-то криво улыбнулся уголком рта, бросил быстрый вороватый взгляд:
— Любишь скорость?
— Люблю.
— Я тоже, — согласился он.
— Так поддай газу? Что ты как неродной? — не унимался Юра.
— Двигаться надо со скоростью потока. А этот антиквариат, — он кивнул на волочащийся перед ними форд, — не способен давать больше 50.
«Скорость потока», — запомнил он зачем-то. Двигаться со скоростью потока.
— Отстой, — резюмировал Юра и отвернулся. — У них тут хоть каток есть?
— Есть.
— Охуеть, я думал в Штаты гоняют, — поделился он, выдувая и лопая очередной пузырь.
Ему было интересно, когда китайца это заебёт. Но тот не возражал, чем начинал уже реально подбешивать.
— Нахуя это тебе?
— Что?
«У тебя график пиздец», — думал тогда Юрка. — «Я знаю, я погуглил. Свободного времени сколько? Минуты четыре в сутки? Это даже не твоя страна, особо не попиаришься, и даже не твоя проблема. Какого хуя? И теперь ещё фигурное катание. Ты не станешь ПРО в этом возрасте, даже КМС вряд ли. Нахуя тогда вообще, если не быть лучше всех?» — вот что он думал. Но вслух сказал:
— Ну… всё?
Ван Ибо молчал долго. Мимо проплывали цветастые истрёпанные дома. Раньше, наверное, были огонь. Кто-то играл на гитаре, танцы среди бела дня. Южные люди всё-таки другие совсем. Плисецкий успел уже забыть про вопрос, когда Ван Ибо вдруг произнёс:
— Хочу.
Пояснил, конечно, как боженька, просто сил нет.
Это сейчас он понимает, что ответ был охуенный. Лучше не скажешь. Но тогда и он не был таким, как сейчас.
«Хочу», — хмыкает он про себя, с��имая и разжимая кулаки. На ткани футболки не остаётся никаких заломов, расправляется обратно за секунды.
«Они вообще потеют?», — он думает эту мысль фоном, без любопытства. Аккуратно расправляет ткань. Вообще никаких влажных следов. Потом смотрит на свою, потемневшую на груди. «Кругом одни предатели», — разочарованно решает он, комкая футболку Ван Ибо обратно.
Остро упираясь локтями в колени, Плисецкий усаживается на край кровати и со скучающим видом подпирает голову обоими кулаками. Футболку не выпускает. Ткань мягко холодит щеки и подбородок. Он нервно елозит пальцами, так, что с каждым движением лицо утопает в ней всё глубже и глубже — виски, лоб, линия роста волос — пока, наконец, не зарывается в неё целиком. Он сводит ладони вместе, крепко прижимает к лицу и, зажмурившись до белых пятен, глубоко-глубоко вдыхает. Затем — ещё раз.
Пахнет охуенно. И Юра дышит как последний раз в жизни.
— Пиздец,— шепчет он глухо. — Мне пиздец.
Он складывается практически пополам, упирается лбом в колени.
В голове становится тихо и пусто. Он слушает неровный шум воды из ванной, и то, как кровь барабанит в уши.
И дышит.
У него появляется шальная мысль своровать её себе. Выклянчить. Сказать, что у нас таких не делают. Что угодно.
Он блядь ужасный очень хуёвый самый отвратительный в мире друг. И ещё, кажется, фетишист.
«Фашист-фетишист, блин», — ржёт он со своей тупой бестолковой шутки.
За дверью слышится шуршание, а затем два быстрых поворота замка. Юра в панике заталкивает футболку под подушку и присаживается на край кровати, руки на колени, как первоклассники на коллективных фотках.
— Юра?
— Чо? Спинку потереть? — хочет звучать расслабленно, а получается нервно, и он хихикает, хотя нихуя не смешно.
— Рюкзак подай, плиз.
«Совсем плохой», — констатирует Юра, но за рюкзаком всё-таки поднимается.
Он подходит, стараясь не всматриваться, что там видно через приоткрытую дверь, из которой дышит влагой и пахнет гелем для душа. Он отворачивается и протягивает рюкзак. Ван Ибо касается его горячими влажными пальцами:
— Юр?
Плисецкий оборачивается на автомате и — блядь, всё-таки смотрит, ну что за человек, а!
— Чего? — рявкает он на всякий случай недобро.
Ван Ибо победно улыбается. Ресницы у него смешно слиплись от воды, Плисецкий насчитывает восемь пучков на правом, левый рассмотреть не успевает.
— Спасибо! — ��оворит он, проникновенно глядя в глаза.
— Ой, да иди мойся уже, заебал, — выпаливает Юра, чтобы сказать что-то нормальное, а сам думает:
«Пиздец. Никаких нервов не напасёшься».
Он возвращается на свою кровать и падает лицом в подушку. Что люди вообще делают, когда всё в их жизни вот так?
Ебаная катастрофа. Нахера он туда посмотрел? И как теперь это развидеть. И Ван Ибо, наверняка, заметил. Не слепой же он, в самом деле.
Юра тяжело вздыхает. Потом ещё раз. Надевает наушники и включает на ютубе видосы про котов. Лучшего способа отвлечься в мире не существует. А если и существует, то Юра про них не знает.
Он как раз ржёт над подборкой, где коты оглядываются на огурец и подпрыгивают до стратосферы, когда матрас немного покачивается под весом присевшего рядом Ван Ибо.
— Что смотришь? — спрашивает, заглядывая через плечо и вытягивая шею.
Плисецкий чувствует жар, который тот приволок с собой из ванной. Ощущается горячо даже через джинсы. Он оборачивается и хочет огрызнуться, но Ван Ибо смотрит вроде заинтересовано, без подъёба, сидя рядом в одном полотенце, обёрнутом вокруг талии, мокрый и по-мультяшному румяный. Всё душевное равновесие, с таким трудом добытое при помощи котов, летит к чёртовой матери.
Он думает, что, наверное, то же самое испытывают люди, которые долго и методично напиваются, а потом трезвеют за секунду.
Он сглатывает.
— Котиков смотрю, — и когда брови Ван Ибо медленно ползут вверх, добавляет: — Они милые и тупенькие, прямо как ты. Сделаю про тебя канал на ютубе и разбогатею на рекламе.
— Милые, значит, — задумчиво повторяет Ван Ибо, и Юра громко стонет про себя.
«Сейчас бы на лёд», — с тоской думает он, — «и выкатать там всё это дерьмо».
Но льда рядом не было, а Ван Ибо был. Поэтому он лягает его в спину и шипит:
— Чо расселся? Дай вылезти.
Улыбнувшись ему во весь рот, Ван Ибо послушно поднимается, придерживая полотенце рукой.
«Бесишь», — думает Юра, — «как же ты меня бесишь, когда так делаешь».
Внизу живота снова начинает звереть. Ему хочется пальцами в эти влажные волосы и потянуть назад, рявкнуть что-то недоброе, обидное, долго и вдумчиво над самым ухом объяснять, как можно с живыми людьми, а как нельзя.
Вот так — нельзя. А так как он — вообще нельзя.
Он бы сначала укусил. Так, чтобы Ван Ибо по-настоящему проняло. А потом языком по тому же месту. Губами тоже.
Плисецкому неуютно от скорости появления этих мыслей.
Занавешиваясь чёлкой, он быстро собирает своё банное барахло и прячется за дверью в ванной. Немного подумав, замок решает не закрывать.
Из запотевшего мутного отражения на него смотрит чувак, бледный и злой, с больными гриппозными глазами. Ему от себя тошно.
Потому что Ван Ибо нормальный парень и отличный товарищ. А Юра Плисецкий тупой малолетний пиздюк, который вкрашился в своего единственного друга просто потому, что кто-то впервые в жизни относится к нему по-человечески.
Ладно. Не только поэтому.
И сейчас ему охуеть как страшно. Хотя он уже практически смирился, что и в этот раз обязательно всё похерит. Всегда всё херит. Такой вот он человек.
Филантроп. Фашист. Фетишист. Извращенец. Гей.
Ему становится интересно, а если стоит только на китайцев, на одного китайца, поправляет он сам себя, для этого тоже есть название? Типа китаефил? Ибофил? «Хуибофил», — подсказывает он сам себе и ржёт, хотя все это по-прежнему нихуя не смешно.
Включает воду, быстро раздевается и влезает под душ. Его ошпаривает кипятком. Кто вообще способен выжить в такой температуре, грёбаные китайцы. Юра щедро поворачивает рычаг и регулирует температуру до нормальной человеческой. Какое-то время просто бездумно стоит, подставляя лицо под прохладный поток воды, размышляя, что делать дальше.
«А какие тут варианты?» — злится он.
Миссию завершат и разъедутся. Ему иногда так странно от того, что этим всем занимаются только они. Юрке, вот, чтобы осознать хватило двух минут. Остальные-то чего морозятся?
А может это работает, только когда лично рассказываешь? Он вспоминает, как за обедом Ибо вдруг ни с того ни с сего сказал:
— У меня есть фан-клуб, — и прежде чем Юра успел съязвить какую-нибудь тупость, — они купили вертолёт.
— Нахуя им вертолёт? — удивился Юра, правильно говорили, что Восток — дело тонкое.
— Поддерживают так. Баннеры всякие, такие штуки.
— Показушники, — фыркнул Юра и отпил из стакана.
Холодный кофе был мерзким на вкус, каким-то кислым, мороженое неаккуратной формы больше походило на молочный лёд с сахаром.
— В двадцать первом году, когда было наводнение в Хэнани, я полетел волонтёром. Это был пиздец, на самом деле. То, что по телеку, и то, что на месте. Вообще. Короче, они этот вертолёт тоже отправили на помощь пострадавшим.
— Круто, — Юра восхитился совершенно искренне.
— Ага, — согласился Ван Ибо. — Им не надо было получать согласования на согласования, никакие протоколы соблюдать, взяли и прилетели. Потому что так правильно.
И замолчал, надолго. Юра тоже призадумался, вспомнил всё, что знает про своих фанатов, и за Ангелов Юрия сделалось как-то стыдно.
— Приуныл, что твои не такие крутые, да? — ухмыльнулся Ван Ибо.
— Ну, вертолётов у них нет, насколько я знаю, нечем тут крыть, — вяло отозвался Юра, толку спорить.
Он был о фанатах не самого высокого мнения. В основном, они раздражали. Ну то есть. Он был благодарен за поддержку и всё такое, но было бы заебись, если бы они это делали только в специально отведённом месте и специально отведённое время, например, только на соревнованиях. Ну, и в инстике. Это тоже ок. Размечтался.
— Не в этом дело. Если их не направляешь ты, их направляет кто-то другой. У нас так, — добавил Ван Ибо, выдержав паузу. — У вас, я думаю, тоже. Журналисты там всякие, блогеры. Понимаешь, да?
Юра понимал. Так называемые журналисты и блогеры заебали. Журналисты сейчас все. Каждый, у кого есть телефон. Котёнок на дереве — новость. Наводнение в Хэнани — новость. Новое яблоко выпустили в штатах, вот охуеть. Все ебанулись, без экспертов хуй от пальца не отличают. Он хорошо понимал, о чём говорил Ван Ибо.
Чего он не понимал — что этот короткий разговор в итоге приведёт его сюда.
Это вторая его миссия по счёту. Из осмысленных, наверное, первая. За это время Плисецкий кое-что осознал: внимание к катастрофам у людей ситуативное, а за селебами круглосуточный сталк-контроль. Ван Ибо просто нашёл способ обратить эту бесячую херню во благо. Теперь нет такого, что проблема в глубокой жопе в какой-нибудь Африке никого не ебёт. Если она ебёт Ван Ибо, она ебёт и его фанатов. А когда что-то ебёт так много людей одновременно, оказывается, люди разных возрастов, профессий и взглядов, способны объединиться и найти решение. Быстрее и эффективнее, чем правительства и НКО, которые просто, блядь, разучились разговаривать друг с другом без ножа в рукаве.
Плисецкий сначала думал: «нахуй надо, вообще не моя работа».
Потом подумал: «ой, много ты там один наделаешь».
А после Кубы понял, что ебанутый китаец прав.
Большинство их коллег пускали свою власть на какую-то хуйню. На дачи там, на баб или мужиков. А китаец — нет. У него как будто был план, и он упёрто хуярил в его сторону. Никто не разделял его идей, но чем больше времени они проводили вместе, тем лучше Юрка понимал. Выразить словами не мог, но понимал, где правильно, а где гниль ебаная.
В китайце гнилья не было.
Он отплёвывается от воды, выключает воду и вылезает из душа. Воздух влажный, над головой тарахтит вытяжка. Зеркало затянуло испариной, и на нём видны следы от ладоней, наскоро протиравших поверхность. Юра проводит по ним своей, повторяя траекторию движения. Стекло прохладное, а руки у Ван Ибо обычно горячие. Он думает, что китаец снова был прав, когда говорил:
— Бывает, что не получается быть рядом. Зато можно делать что-то так, как будто вы делаете это вместе. Фигня, конечно. Но помогает чувствовать себя ближе.
Бесит быть согласным почти со всем. Поэтому обычно он спорит, а Ван Ибо с ним — нет. Это ещё больше выводит из себя. Особенно, как Ван Ибо слушает это всё. С таким видом, как будто говорят что-то очень важное. Когда так слушают, обязательно чувствуешь себя дураком.
Он выходит из душа, а Ван Ибо как раз сидит на балконе и наклеивает пластырь на коленку. Перед ним открыта аптечка, упаковка выпотрошена, ветер опасно покачивает её за края. Он так и сидит в футболке и трусах, на шорты, видимо, здоровья не хватило.
Плисецкий присаживается напротив. На улице тепло и почти безветренно, редкие капли с волос нехотя холодят затылок.
— Ну и чо, — говорит он, отхлёбывая сок прямо из упаковки. — Стоило оно того?
— М? — Ван Ибо поднимает на него взгляд, внимательный из-под ресниц, Юре почему-то становится душно, он поправляет ворот футболки, чтобы отвле��ься. Ледяная капля лениво сползает за шиворот.
— Ну, — поясняет Юра рукой, — фансервис этот ваш. Стоило оно разбитой коленки? Ты же для них прыжок запорол, да?
Плисецкий знает почти наверняка. Он читал, китайцы ебанутые, а он сам для них практически воплощённая влажная мечта э-э-э любителей такого контента. Про крепкую мужскую дружбу.
Ван Ибо разглаживает пластырь на коленке, в глаза не смотрит, говорит:
— Дурак ты, Юра.
И Юре, дураку такому, снова делается жарко и тошно. Через пару дней надо разъезжаться чёрти на сколько. И Плисецкий боится этого, как ничего и никогда раньше не боялся. После Кубы он вернулся выпотрошенным под ноль.
Он даже не понял, когда начал измерять время в обратном направлении. Осталось ещё три дня. Два дня. Один. Сегодня.
Кажется, это произошло между второй и третьей прессухой. Ему ходить было не обязательно, но дел поинтереснее всё равно не было, и проще было дождаться.
— Господин Ван, у вас такой плотный график, вы не жалеете, что приехали?
— Нет.
Плисецкий не выдерживал и прыскал смехом, потому что лицо у Ибо выразительное. Он без помощи пальцев умел показать, что ебал их всех в рот. И что если он о чём и сожалеет, так это что эти прессухи — тоже часть работы.
— По чему вы больше всего скучаете, когда оказываетесь так далеко от дома?
— По семье, — дежурно отвечал Ван Ибо.
— Что вы первым делом сделаете по возвращении?
— Поеду на съёмки, — Плисецкому хотелось запретить все эти вопросы.
Во-первых, они были непроходимо тупые. Во-вторых, зачем спрашивать, что он будет делать там, когда он — здесь. Его злило и то, как неумно они использовали возможность задать вопрос, и то как расточительно тратили их время на ерунду.
— Как тебе прессухи? — спросил он потом, когда они ехали после того самого интервью.
Юра закусил губу и поморщился.
— Тупость.
— Тупость, — согласился Ван Ибо.
Пока Ван Ибо просматривает видео, которое записали ему родители, Плисецкий не вслушивается. Оглядывает близлежащие пейзажи и тоже тянется за телефоном.
— Мечтаешь скорее попасть домой? — спрашивает без интереса, когда звук видео прекращается. Сам листает ленту в Инстаграм, лайкая все посты, включая рекламу.
— Всегда хочу. А ты?
— И я, — врёт Юра и добавляет: — Считаю дни, — а вот это правда.
Хуёво быть тем, кто остаётся. Хуёво быть тем, кто улетает. «Всеми быть хуёво», — думает Юрка.
И так, и так остаёшься один.
И так, и так опустошение и голод.
Есть воспоминание, которое он не лапает слишком часто. Тоже с прессухи. Он сидел тогда в зале, вместе со всеми, на самом последнем ряду, натянув капюшон толстовки по самый рот. Журналисты задавали очередные беспонтовые вопросы, Ван Ибо давал очередные беспонтовые ответы, пока кто-то вдруг не спросил:
— Говорят, у господина Плисецкого не самый простой характер. Вам быстро удалось найти общий язык?
Плисецкий долго пытается усесться поудачней, а потом в итоге закидывает обе ноги на колени Ван Ибо, чуть сползая со своего стула. Вот теперь удобно. Тепло. Продолжая скролить ленту, он бросает быстрый взгляд из-под чёлки: Ван Ибо улыбается, широко и счастливо, не ему, чему-то в телефоне, и кладёт свободную ладонь поверх Юркиной лодыжки.
Плисецкий закусывает костяшку пальца, чтобы не заорать.
«Я в аду», — думает он, — «пиздец меня развезло».
И злится. На танцоров и их контактность. На то, что ладони у него такие горячие и мягкие. На непрошенный стояк, с которым фиг знает, что сейчас делать. И на то, как Ван Ибо тогда ответил:
— Так обычно говорят те, кому орешек не по зубам.
«Ну охуеть, тебе, можно подумать, по зубам», — возмутился Юра настолько, что даже вылез из своего капюшона, потому что китаец в натуре охуел. Где брови, а где пол!!?
Но Ван Ибо не смотрел на журналистов. Не смотрел в камеры. Он исподлобья смотрел прямо на Юру поверх чужих голов, фотоаппаратов и поднятых рук.
— А я не из тех, кто привык сдаваться без боя.
Юре сделалось нехорошо и сладко одновременно. Как когда элемент, который долго и мучительно задрачивал, вдруг получается. И получается идеально.
Юра не часто лапал это воспоминание, потому что оно было драгоценным. Но иногда оно просто всплывало перед глазами, и заглушало собой всё. Как несколько дней назад. И как сейчас.
Юра прикрывает глаза и думает: насрать. Пусть смотрит, пусть охуевает, он уже заебался делать вид, что всё это нормально. В конце концов, сам виноват. Он вообще не собирался вот это всё. Если бы ему кто сказал, он ни за что бы не поверил. Хотя почему «бы»? Ему говорили, и он не верил. Яков так и сказал, дословно:
— Да, брось, Юрка. Понравится он тебе, вот увидишь.
«Ой, да пошёл он нахер», — решил Юра от души, — «сейчас приедет, пальцы свои китайские гнуть начнёт, сто раз таких видел, без продюсера слово не знают, как сказать».
Но вслух хмыкнул:
— Сомневаюсь.
— Вы вообще-то похожи, — задумчиво протянул он.
— Люди вообще-то уникальные снежинки, слыхали о таком?
— Ну вот и посмотрим, — весело хохотнул Яков.
Юра перегнулся через весь стол и прошипел:
— Мне по-вашему совсем нехуй делать? Совесть-то есть вообще?
Барановская многозначительно посмотрела на Юру. Под её взглядом постоянно хотелось извиняться и втягивать шею. Разумеется, Юрка делал ровно обратное.
Она не стала говорить при Якове. Какое-то время они молча стояли у ленты багажа, на которой растерянно проезжали мимо разнокалиберные чемоданы.
— Ну, хоть вы-то ему скажите! — не выдержал Юра.
Барановская молчала отлично, с большим достоинством. Юра тоже мечтал однажды этот скил освоить, но для этого надо было научиться что-то делать со всем тем, что постоянно так и рвалось наружу. Не в этой жизни, наверное.
— Дружба между соперниками — вещь редкая и хрупкая, хотя поначалу всем нравится ��аблуждаться.
— Это и ежу понятно, — разозлился Юра. — На фигуристах, можно подумать, мир заканчивается. Да я в интернете сколько хочешь друзей могу завести. Хоть китайцев, хоть некитайцев!
Барановская посмотрела на него внимательно и очень серьёзно. Юра понимал, что возражает только из чувства противоречия, но его всё это бесило, и он упрямо продолжал смотреть на неё с вызовом.
Она отвернулась первой.
— Дружба между неравными рано или поздно превращается в благотворительность, мальчик.
Лента услужливо подвезла их чемоданы аккурат к концу высказывания. Разговор был окончен.
Уже позже, в машине, к обсуждению подключилась ещё и Милка:
— Он точно тебе понравится, — резюмировала она, хотя до этого не прозвучало ни одного аргумента, Юра зыркнул на неё недобро, но она не растерялась и ответила: — А ты погугли! Погугли! Для начала.
«Да мне он уже не нравится и заебал меня просто пиздец, и вы тоже все заебали!!!», — упрямо сердился Юра.
Но всё-таки погуглил.
«Лошара какой-то», — решил он по итогу. — «Но двигается неплохо».
Рука на лодыжке легко сжимается и разжимается, как делают кошки лапами, перед тем как устроиться спать. Плисецкий откидывает голову на спинку стула, нашаривает в телефоне аудиокнигу и нажимает «плэй». Солнце лениво катится к закату, еле тёплое, и уже почти не жарит. Он закрывает глаза, и над веками делается ярко.
Голос хороший, выразительный. Книжка вроде бы тоже. Непонятно, от чего так стонут одноклассники. Эта явно поинтересней всяких там «Отцов и детей». Плисецкий слушает, представляет образы и практически не отвлекается на то, как большой палец Ван Ибо невесомо скользит по коже.
— Что за звук? — спрашивает он, и рука замирает, больше не двигается, и хочется крикнуть «ну, чего ты там умер, хорошо же было!»
Плисецкий нажимает на паузу и прислушивается:
— Гроза что ли? — глаза больше не слепит, через закрытые веки кажется, что небо затягивает тучами.
— Не похоже это на грозу, — Ван Ибо произносит достаточно ровно, но Плисецкому не нравится, как оно звучит.
Он открывает глаза, и ему кажется, что с каждой секундой реальность становится всё мрачнее. Тьма, наползающая с Средиземья, в их случае действительно ничего общего с грозой не имеет. И это хуёвые новости.
Потому что это означает только одно: саранча.
Целые полчища. Они всё прибывают, постепенно заволакивая собой высокое чистое небо, до тех пор пока п��лностью не заслоняют солнце.
Передатчик в ушах с��оит помехами. Ван Ибо что-то говорит, Плисецкий понимает интуитивно. Перевод запаздывает и звучит по-металлически шершаво. Линзы тоже барахлят так, что мир кажется дёрганным и рассыпающимся на части.
— Ага, пойдём, — кивает Юра на дверь, и говорит на полтона громче. Не из-за гула, просто чтобы было понятней.
Китаец оказывается прав в очередной раз: смотреть по телеку и быть на месте — это совсем не одно и то же.
Они забегают в номер, балкон закрывают наглухо, опускают жалюзи. Стекло достаточно прочное, сидеть в полумраке не обязательно, но ни у одного нет желания знакомиться с ними поближе. Рябь перед глазами просто чудовищная. Ван Ибо одновременно с ним приходит к тому же выводу.
Без линз Плисецкий чувствует себя голым и слепым. Слов тоже нет, остались одни имена.
Но много ты ими наговоришь.
Он вообще-то знает пару фраз на китайском. Признаваться, конечно, не будет, потому что тогда станет понятно, зачем учил.
А ещё у него проблемы с аудированием (а у кого их нет?), и всё равно это будет позорищем. Пока Плисецкий ради интереса пытается что-то припомнить, Ван Ибо вдруг говорит:
— Юра хороший.
— Ага, — моментально подхватывает Юра, не успевая толком удивиться. — Юра хороший и Кеша хороший, — китаец, конечно, прикола не понимает, Юра ржёт сам по себе и думает, что вообще нормально китаец выучил, полезное, а он только какую-то хуйню может вспомнить типа “они китайцы”, “она не американка”.
«Человек», «один», «два», «три», «кот», «люблю тебя».
Охуенный джентльменский набор. Братва, налетай.
Он хмыкает, повторяет это всё про себя по-русски и начинает дико ржать, как припадочный. Он чувствует, как слёзы подступают к глазам, и просто не может перестать. Ван Ибо толкает его локтем:
— Эй?
Плисецкий не может ответить. Он пытается, но на первом же слоге его снова выносит к чертям.
— Эй! — требует Ибо, потряхивая за плечи, и тоже ржёт, но по ходу уже с Юркиных конвульсий.
Плисецкий показывает жестом, мол, сейчас, секунду, не видишь — человеку плохо, дай собраться.
А потом набирает воздуха и скороговоркой так и выпаливает, пока снова не накрыло:
— Ren-san-er-yi-mao-ai-ni!
Пока говорит, конечно, забивает болт и на артикуляцию, и на тона, не до них сейчас. Тут бы дожить до конца фразы. До Ибо доходит не сразу, зато когда доходит, он тоже начинает давиться смехом, от чего его щеки сразу кажутся по-дурацки набухшими, как у младенцев. Самообладание хранит он не долго, потому что чувство юмора у Ван Ибо такое же придурочное, и в следующую же секунду он тоже беспомощно съезжает на пол, издавая отвратительные неприличные звуки своим горлом или ртом, короче, собой.
«Ебанутые», — думает Юрка. — «Какие же ебанутые. И нам по ноль лет. И похуй».
Они истерично катаются по полу в полумраке, и ржут оба, и стонут, и снова ржут, цепляясь за плечи друг друга, и это, конечно, не особенно помогает успокоиться.
За окном слышатся частые удары насекомых о стекло. Но прямо сейчас — не страшно.
Утирая влажные глаза, Плисецкий переворачивается кверху брюхом и кашляюще досмеивается. Хорошо вот так полежать, без конвульсий, хотя икота начинает подбешивать.
Настоящий голос Ван Ибо без передатчика звучит немного иначе. Юре нравится.
— Русский-то тебе нахуя? — шепчет он в потолок, не рассчитывая, что тот поймёт. Ему и не надо, чтоб отвечал. Про себя-то ему всё понятно. А про китайца — вообще ни разу.
Ван Ибо отползает к стене и обессилено приваливается к ней.
Поболтать хочется, аж зудит. О чём угодно. Но сети нет, переводчика нет, на пять слов не особо разгуляешься. Нет фильмов и книжек, на улицу тоже не пойти. Застряли в каменном веке посреди нигде. И чёрт его знает, когда этот мрак закончится. Он смотрит снизу вверх на Ван Ибо. Сначала закрыв правый глаз, потом левый, потом снова правый. Его башка слегка смещается туда-сюда, хотя сам Ван Ибо не двигается — Васнецовской Алёнушкой наблюдает за его жалкими потугами хоть как-то развлечься.
Лицо его тоже кажется странным в таком освещении. Плисецкий не хочет давать имя тому, что в нём видится, потому что при свете дня и с гаджетами всё будет по-другому, а слово — застрянет в мозгах надолго и будет его изводить.
Тем, что так было однажды, и больше уже не будет.
Плисецкий не выдерживает, переводит взгляд на коленку. Пластырь весь истрепался и стал похож на мусор, видимо, всё содрал, пока они тут бесились. Из-под него тянется уже подсыхающий след от крови, больше похожий на грязь.
«Она так никогда не затянется», — устало думает Юрка и лезет в карман. Хорошо, хоть додумался сгрести с собой пластыри и салфетки со стола. Он тоже садится, срывает зубами край упаковки и достаёт салфетку. Подъезжает поближе, сдирает старый пластырь, бросает на пол. Рана всё ещё кровит, он смотрит на Ван Ибо строго, мол, что ж ты такой распиздяй, и пучеглазо кивает на салфетку, мол, не благодари, давай уже, протирай, заклеивай, вот это всё.
Китаец как будто не понимает. Сидит, улыбается, сверлит своими глазищами, и Плисецкий обречённо думает:
«Ну, за что? За какие такие грехи, а?».
Проводит салфеткой сам. Осторожно, почти невесомо, где рана. Пожёстче там, где уже успело подсохнуть. Салфетку бросает рядом на пол, потрошит упаковку с пластырем, клеит, расправляет от складок. И снова, и снова, и снова. Нормально вроде держится. В отличие от него.
Он сглатывает вязкую слюну. В стекло всё ещё барабанят. В ушах тоже стучит, и стучит часто.
— Юра? — тихо зовёт Ван Ибо.
Он смотрит из-под ресниц, расслабленный жаркий, Плисецкому делается нехорошо под этим взглядом.
— Заткнись, — шипит Юра ему в коленку, — заткнись, бога ради, я и так уже, блядь, не вывожу. У меня нервы не резиновые, я себе уже все руки на тебя стёр.
Ван Ибо улыбается так, что Плисецкому охота застрелиться. Опомнившись, отдёргивает руки от коленки и валится обратно на пол — икать, рассматривать потолок, стены, тоненькие пульсирующие полоски света от жалюзи на ковре, что угодно.
Ван Ибо следует за ним, устраивается совсем рядом, Плисецкий чувствует затылком его дыхание, и когда он вдруг произносит тихое «и я», Юру аж подбрасывает. Он оборачивается и страшным голосом спрашивает:
— В КАКОМ СМЫСЛЕ «И Я»?!
С ошалелыми от ужаса глазами Ван Ибо поясняет что-то на своём, Плисецкий жестами напоминает, что передатчик-то тю-тю!
Ван Ибо тяжело вздыхает и предлагает то немногое, что у него есть:
— Да?
— ЧТО ДА, ВАН ИБО?
— Да, и я?
— ТЫ ПОНИМАЕШЬ ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ? — орёт Плисецкий, сам не понимая зачем. — ХУЛИ ТЫ МОЛЧАЛ? ПОЧЕМУ ТВОЙ РАБОТАЕТ?
Ван Ибо показывает на ухо и говорит:
— ПРО.
—А-а! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧТО ЛИ? АВТОНОМНЫЙ? — Плисецкий сам не знает, почему продолжает орать. Кажется, что так надёжней.
Ван Ибо кивает.
Ну, конечно, блядь, профессиональный, а какой ещё? У человека съёмки повсюду по сто часов в каждой из жоп мира, будет он с туристическим каждые пять часов на зарядку бегать и сеть ловить, как же.
— Подслушивал, значит? — предъявляет ему Плисецкий.
А что ещё делать? Не каяться же в собственном слабоумии.
— Да, — отвечает Ибо, растягивая губы в самой нахальной своей ухмылке.
— Манда! — передразнивает Юра, а в голове зудит миллион вопросов, которые ��аже не задашь, потому что из ответов у этого только «да», «Юра» и «хороший». Но Плисецкий тоже не из тех, кто привык сдаваться без боя. Сейчас он всё разрулит, как любой нормальный русский, из говна и палок. Он разворачивается к Ван Ибо теперь полностью, и нависает над ним, разглядывая эту наглую хитрую рожу, как в первый раз.
В дверь стучат.
Они переглядываются, как в плохих комедиях, и их швыряет в разные стороны. Ван Ибо прочищает горло и открывает дверь. На пороге стоит чувак из съёмочной группы.
Юра запомнил его как “Джексон”, в китайское имя даже не пытался. Это тебе не Ибо. Джексон, понятное дело, ничего не видел, но Юра все равно чувствует, что краснеет аж до макушки.
Ван Ибо что-то мурлычет на своём, потом подходит к Юре показывает на батарею и камеру. Спрашивает:
— Да?
— Снимать пока батарея не сдохла? — предлагает он, Ван Ибо кивает и тычет на розетки. — А-а! Если электричество вдруг отрубят?
Его лицо сияет, как будто в крокодила они играют на деньги.
— Да? — спрашивает, кивая на дверь.
— Ну, пойдём, всё равно заняться особо нечем.
Они идут по коридору, мрачнота вокруг — хоть хорроры снимай. Электричество что ли экономят? Саранча что ли летает на свет?
Плохо без гугла. Без гугла и без мозгов. И без переводчика плохо. Юра решает кое-что проверить, тыкает локтем Джексона и спрашивает:
— Они чо на свет летят, да?
Джексон смотрит беспомощно сначала на Юру, потом на Ибо, показывая, что уши пустые и он не понимает.
Ван Ибо переводит вопрос, и Джексон снова делает страдальческое лицо типа «чо ты докопался, я просто за камеру отвечаю», а потом лицом же добавляет «прости».
Юра удовлетворён. Пока он думает над вопросом, Ван Ибо легко касается его руки пальцами, как бы случайно. Его прошивает разрядом. Они идут близко, коридор тесный. Юра понимает, что он и раньше так делал. А Юра. А Юра как дурак проклинал тесноту, коридоры и свою впечатлительность, вот что делал Юра.
— И давно? — спрашивает он, когда они, наконец, добираются до лестницы.
Ван Ибо коротко кивает. На нем такой дежурный непробиваемый покерфэйс, что на секунду Юра думает, что Ибо не понял вопрос.
— На Кубе ещё? — уточняет он.
Джексон возится с ключ-картой, которая отказывает уже второй раз.
— Да, — говорит Ван Ибо Юре, а потом — что-то говорит Джексону. Тот энергично кивает и достаёт вторую ключ-карту, которая подходит.
Они оказываются в широком конференц-зале. Здесь тоже темно, жалюзи задёрнуты, как и у них в номере.
— Или ещё до Кубы? — не унимается Юра.
В зале загорается с��ет. Джексон смотрит на Ибо и что-то спрашивает. Он сглатывает и кивает, а потом поворачивается к Юре и говорит:
— Да.
И снова это выражение на лице, как будто обнял без рук.
«Да», — с нежностью думает Юра. — «До Кубы ещё. А хули ж ты молчал, скотина такая!»
— Знаешь, как «нет» сказать? — хмуро уточняет на всякий случай.
— Неа, — отвечает Ибо и ржёт.
Получается как-то нервно.
Оператор открывает жалюзи и на секунду лица каждого из них перекашивает от отвращения. Окно кажется живым. Стекло — хрупким.
За окном шипит саранча. Звукоизоляция плотная, звук, который они слышат, ненастоящий. Но кажется таким реальным.
Джексон проверяет свет в помещении, подсветку от камеры и судя по бесконечному цыканью, которое он выдаёт через каждые пять секунд, всё не то и свет здесь сущая катастрофа.
Впрочем, на Юриной памяти Джексон светом не был доволен ни разу. Однако картинку каждый раз выдавал как боженька. Юре было с чем сравнивать и на чём проверять: лицо всегда расцветает, когда умоляешь его этого не делать хотя бы в день проката или съёмок. Но на кадрах от Джексона независимо ни от чего он получался всегда таким идеальным, каких в природе просто не существует.
Джексон говорит что-то Ван Ибо, кивает Юре и выходит из конференц-зала, раздосадовано размахивая руками. Ван Ибо ржёт в кулак и смотрит на Юру.
Смотрит. А чувство, будто тащит буксиром. Юра насильно врастает ногами в пол. Ему кажется, если сделает хоть шаг, обратно отлепиться уже не сможет. Ван Ибо что-то такое, видимо, угадывает по лицу, потому что шагает навстречу сам. Его руки невесомо проезжаются по подоконнику, которому Плисецкий в эту секунду безбожно завидует.
— А Джексон? — беспомощно спрашивает Юра.
Он не тупой, он понимает, что сейчас будет. Ему перемкнуло в башке, он способен думать только три гласные. Ну, может, две. У него дрожат руки и слабеют колени, когда Ибо подходит и говорит:
— Юра.
Сознание реально коротит. С ним такого ещё не было. Он разрывается между тем чтобы, как следует двинуть Ибо в челюсть — типа приди в себя, придурок, сейчас Джексон вернётся — и сделай это. Сделай это немедленно. Если ты не сделаешь, я тебя сам пристрелю.
Ибо выглядит совсем помешанным. Когда он так смотрят — это очень страшно и круче чего угодно. Круче медалей и воплей с трибуны. Плисецкий теребит ногтем боковой шов на своих джинсах, как оберег от глупостей. Только это не работает. Потому что Ибо уже рядом. Останавливает это движение своей горячей ладонью, сплетает пальцы и резко дёргает на себя, так, что Плисецкий спотыкается на ровном месте и врезается в него:
— Ты охуел? — возмущается он, за секунду вспыхивая до небес и растеряв от неожиданности весь свой цветистый набор ругательств.
— Да, — отвечает Ван Ибо, и взгляд у него поплывший, и что-то есть в его голосе такое, что Юра тоже делается немного бухой.
Он закрывает рот, которым только что хотел выругаться, туго осознавая, что между ними почти не осталось свободного пространства. Что Ибо гладит его лицо, а он немножечко задыхается.
Рука ещё эта. Цепляется за ремень джинсов, увесисто, тяжело.
«Поцелуй меня что ли, чо стоим как придурки», — думает Юра. Но Ван Ибо никуда не торопится. Утыкается носом в макушку, и, кажется, в один глоток снюхивает с него все запахи разом. Ван Ибо прижимает его к себе всего, одним здоровенным жестом. Целует макушку. Целует лоб. Целует ниже. Брови ресницы. Приподнимает лицо за подбородок.
Плисецкий думает, что футболка огнеупорно направляет весь жар этого проклятущего лета ему под рёбра. Он плавится. Закусывает губу. Его мелко и сладко колотит. Он весь как натянутая струна. Ему надо на воздух, в душ, подрочить, спрятать лицо в подушке и как следует поорать.
Ван Ибо жрёт его глазами. Дико, голодно и так открыто, что Плисецкий на полном серьёзе засматривается на вытянутый конференц-стол, в котором так удачно нет никаких углов, в качестве подходящей горизонтальной поверхности.
Ван Ибо прослеживает взгляд и смеётся. Не так как обычно, запрокинув голову и надрываясь всем собой. А как если бы пытался спросить “серьёзно?”.
— В жопу иди, ладненько? — отвечает ему Юра вслух.
Но вместо того чтобы оскорбиться, Ван Ибо целует его. Как будто звук голоса последнюю резьбу сорвал. Юра захлёбывается воздухом от неожиданности. Ван Ибо держит его лицо в своих руках, наклоняя аккуратно, как удобно обоим.
У него такой вкус. Люди такими не бывают. Не должны, по меньшей мере. Юре не хватает воздуха, он жадничает, ему жалко тратить время на вздох, когда губы Ван Ибо так близко, когда он так целуется, что Юра как-то слабеет всем телом сразу: ноги ватные, руки не слушаются, горло стонет без спроса, тонко, жалостливо, господи, он даже не знал, что способен на такие звуки.
Ручка входной двери пару раз вхолостую дёргается вниз. Ван Ибо успевает в последнем вороватом жесте провести большим пальцем ему по губам, а затем приложить к своим.
Юра думает очень честное: «Я сейчас, нахрен, сгорю».
И ещё он думает: «Мне б на воздух».
Из двер��й сначала появляется один софтбокс, затем другой. Джексон закрывает дверь ногой, Ван Ибо быстро подбегает и забирает один из них себе. Плисецкий никуда не подбегает.
Стоит как дурак, и думает: «А, точно».
Мог бы тоже помочь, если бы не мозги ватой не заволокло.
«Интересно», — думает он, — «каждый раз так теперь будет что ли».
Джексон лезет под стол в поисках розетки, и Юра ненавидит его всей душой. Смотрит на Ибо, на смазанный контур губ и думает «это я сделал, это моё».
Моё.
Это слово делает только хуже, но Юра как самый последний из торчков примеряет его к тому, кто стоит напротив, и тихо дуреет в своей голове от собственной беспомощности перед его всемогуществом.
Моё.
И тело отзывается моментально, стояк приветствует его собственнические инстинкты и всячески поддерживает. А Джексон всё копошится и копошится, и Юра чувствует почти отчаяние. Поэтому тоже лезет под стол, потому что жить эту жизнь с таким напряжением в своей лучшей половине он не привык дольше пяти минут.
— Давай помогу, — он светит фонариком с телефона, и Джексон, кажется, говорит, «спасибо». Или «старшая сестра». Юре пофиг, если честно, хоть «стюардесса по имени Жанна», ему надо поскорее вернуть Ибо в номер, и делать там с ним разные вещи.
С фонариком дело идёт получше, Джексон, наконец, заканчивает возиться и переходит к установке. Ван Ибо включает профессиональный режим, и Юра думает «хорошо».
Хорошо, когда можно не делать вид, а быть. Хотя бы перед ним. А Ибо вдруг тоже ему улыбается, как бы подтверждая, что да, неплохо.
Джексон что-то говорит Ибо, и тот переводит:
— Юра? — он подзывает жестом его подойти, и Юра думает, что по другую сторону стола ему стоялось очень сильно спокойней.
Они с Джексонам показывают пантомиму, что нужно от Юры, типа стойте, смейтесь, хлопки по плечу, смотрите через жалюзи, и в телефоны. Такая задача.
Джексон снимает. Юре иногда кажется, что он работает от ворчания. Что весь талант — это всего лишь заклинания, которые они произносит ворчливым тоном, превращая даже картон в того, кого захочется облизать. У Ван Ибо какой-то пунктик по поводу лучших, собирает их вокруг себя, как покемонов.
«И правильно делает», — решает Юра.
«А то иначе это — благотворительность», — неожиданно понимает он Барановскую так ясно, как вообще не хотел.
Надо собраться. Надо лицо нормальное сделать.
Они делают пару дублей, и надо ещё жалюзи открыть, чтобы они как будто саранчу смотрят. Ван Ибо тоже надо смотреть, а лицо у него неживое. Мозг Плисецкого, наконец, начинает кров��снабжаться как следует, и он говорит:
— Я сделаю. Ты повернись к камере спиной и зажмурься, ок? Я скомандую, когда можно будет развернуться.
Ван Ибо кивает и прочищает горло. Юра кивает тоже.
Они склоняются над подоконником, Ван Ибо зажмуривается, и Юра залипает дольше положенного. Он смешно жмурится, как в детстве, как будто если приложить усилие и жмуриться достаточно сильно, всё зло отступит перед твоей несгибаемой волей.
«Хера пацан жмурится, видали? С такими лучше не связываться, такие не пленных не берут». Типа того.
Ему становится смешно со своей же аналогии, и он расслабляется. Не то что бы он сам был фанатом насекомых. Тем более саранчи. Она страшная как пиздец. Но если надо для Ибо, он всё сделает.
— Съёмка пошла, — говорит Юра. — Я буду комментировать, всё что происходит, чтобы мы нормально отработали. Ты глаза пока не открывай, — он лезет пальцами и разгибает жестянки в стороны, главное, чтобы рука не дрожала, а то опозорится на полмира сразу.
Он поворачивает лицо к Ибо и говорит:
— Я сейчас развернулся к тебе и говорю всякий бред, чтобы было похоже, что я в некотором роде эксперт по саранче, а тебе так интересно, что ты аж позеленел и вот-вот блеванёшь.
Ван Ибо смеётся и открывает глаза. Он не смотрит в сторону окна, смотрит на Юру, взгляд у него хоть святых выноси.
— Стоп, — орёт Джексон.
Они обходят его с двух сторон и просматривают превью. Плисецкий с неудовольствием замечает, с какой же тупой рожей он пялится на Ибо в начале съёмок. Такое нельзя показывать в Китае. Нигде нельзя. Их арестуют и отправят в разные камеры в назидание всем туполицым.
Джексон что-то говорит Ибо, и кланяется. Расходимся, значит? Плисецкий тоже кланяется на автомате, не знает, зачем, раньше не делал так, а тут, кажется понабрался. Джексон косится как-то недоверчиво, а потом улыбается. Охуеть. Такого Юра ещё не видел, поэтому тоже улыбается.
Джексон тащит оборудование к окну, снимать крупные планы насекомых через стекло, а Ибо кивает на дверь.
Они выходят в плотную темноту коридора, Ван Ибо находит его руку и сжимает крепко. Рука неожиданно влажная и прохладная, не такая, как обычно.
— Страшно было? — спрашивает Юра.
Шаги гулко отражаются от тёмных неживых стен, нормальное он выбрал место для вопроса.
— Да, — голос у Ибо деревянный.
— Повезло тебе, что я всё разрулил, как боженька, а? — Плисецкий легонько толкает Ибо плечом, и тот крепче сжимает его руку.
— Да, — говорит он, и Юра не видит, но кажется смеётся, — охуенный.
Плисецкий давится смехом на полдороги:
— Ты чо, ру��ский со спецкурса по матюгам начал?
— Да.
«Чтобы быть ближе», — понимает он, и это понимание обжигает. Хорошо, что темно, а то он бы своей физиономией выдал бы вообще всё, что думает по этому поводу.
В их номере тоже темно, но почему-то темнота не кажется злой. Привычная, домашняя, выключатели тебе — бро, косяки и пороги — нет. Ван Ибо включает свет ванной, и узкая полоска света делит комнату на две части. Глаза у него как у хищника, блестят, острые и жаркие, Плисецкий сглатывает тяжело:
— Так что ты там говорил о моих заслугах? — сердце подрагивает в самой глотке, делает голос скрипучим и немного чужим.
Ван Ибо неопределённо пожимает плечами и проводит рукой по Юркиным волосам, убирая их от лица.
— Охуенный, — повторяет он, и у Юры в животе звереет что-то дикое и прожорливое.
— Скажи так ещё.
— Ты охуенный, Юра, — Ван Ибо послушно шепчет это на ухо, а Плисецкий дуреет.
Он хочет слушать это на повторе, чтобы его голосом, чтобы с акцентом, чтобы с этим слишком мягким почти отсутствующим рычанием в имени.
— Мой, — продолжает Ван Ибо.
Мой.
Шёпот такой тягучий и сладкий, как с другой планеты, и Юру отдельно высаживает и с того, как он это произносит и с того, что вообще Ван Ибо о нём думал. Думал, когда искал в словарях, заучивал и повторял. Подбирал правильные слова. Как представлял, наверное, себе всякое. Как, наверное, себя трогал.
Юра чувствует себя жадиной, зубастым и голодным, он хочет и сожрёт всё, что ему дадут. Пока не растерял решимость, он толкает Ибо к ближайшей стене, проводит языком в том месте, на которое облизывался днём, и кусает. Потом языком, потом губами, как представлял. Ван Ибо шипит под ним и кажется скрученным в тугую раскалённую добела пружину. Плисецкий царапает затылок, ведёт языком от ключиц к уху, цепляет передатчик зубами, медленно вытаскивает за пластиковый проводок и сплёвывает себе в ладонь. Ван Ибо возмущённо мычит, стараясь хотя бы повернуть голову, но Плисецкий держит крепко. Он собирается сделать кое-что ебанутое. Как в старом и несмешном анекдоте. Он наклоняется близко-близко, занимает такую позицию, чтобы было видно глаза, а потом очень отчётливо, растягивая каждый из звуков шепчет:
— Ai…ni, — и когда на лице китайца обозначается достаточная степень безумия, Юра удовлетворённо скалится и добавляет, — mao?
Оказавшись на кровати и на лопатках, начинает заливисто ржать. Он не хотел, оно само. Звук, который он слышит, не похож на его смех. Похоже на что-то дикое, ржавое и страшное. В голове стучит «ну вот ты и довыёбывался», потому что на выразительном лице Ван Ибо очень выразительно так и написано:
«Плисецкий, ты довыёбывался».
У Юры под этим взглядом по шкуре проходит нехилый такой озноб. «Ты ещё оближись», — думает он нервно и сам сглатывает.
На самом деле Плисецкому страшно. Он изучил матчасть. И в ознакомительных целях, и в практических. Он не уверен, что гей настолько, он вообще не особо уверен, что кто-то кроме Ибо ему интересен в этом смысле. Он не знает ни как спросить, ни как предложить, он не видит себя ни в одной из ролей, у него нет контрацепции, потому что он человек одарённый, но в другой области, а в этой он неопытен и очевидно туповат. Он волнуется по поводу всего. Что встал, и что упадёт, и что не понравится никому, и что делать хер пойми что. Ему жадно, и страшно, и всё время хочется заорать.
Юра кладёт на лицо подушку и воет, когда Ван Ибо касается его губами там. Выходит громко. Ван Ибо без отрыва от производства сгребает её рукой, и решительно скидывает куда-то на пол, греет его руками, пока говорит:
— Неа, — и скалится — моё
«Так нельзя. Как нельзя? Так нельзя!» — думает Юра и закусывает палец, он как пациенты под электрошоком, закусил бы сейчас с удовольствием деревянный брусок размером с полено.
Он всё понял, что Ибо упаковал в два слова.
Моё. Никаких подушек, никаких деревянных брусков. Я ждал сто лет, не смей от меня прятать. Это моё. Я заслужил. Мы заслужили.
Моё. Плисецкий, хоть раз в жизни, побудь хоть с кем-то честным до конца.
Моё. Только попробуй для кого-то ещё быть таким же, как сейчас. Это всё только моё, ясно?
Юра не может сказать наверняка, почему, но какой-то из давно зажатых нервов вдруг расслабляется, и он отпускает себя.
Становится так хорошо, как не было вообще никогда.
Он открывает глаза и разрешает себе посмотреть на Ибо, который там так увлечённо старается. Который смотрит в глаза и делает языком, что-то такое, что Плисецкому простреливает, кажется, до самых мозгов.
Он падает головой на подушку. Его заклинило на мысли о том, какой же Ибо невозможный. Какой же он невозможный во всём, что делает. Даже здесь, господи, Плисецкий, ты просто везучий сукин сын, ты сорвал джек-пот о-о-о господи.
Перед глазами красные и синие пятна, практически национальный флаг, у него плывёт потолок, шкура и вся ёбаная жизнь. Ван Ибо гладит его тихо, и Плисецкий не знает, как посмотреть ему в глаза, потому что его собственные глаза, кажется, не собираются слушаться в ближайшее десятилетие.
Он говорит: «Иди сюда». И Ван Ибо наползает. Плисецкий ут��кается лицом ему куда-то в ключицы. И дышит. Он не знает, как сказать. Поэтому кусает плечо. Больно, без скидок. Ван Ибо шипит, но не дёргается.
Он, кажется, правильно понял.
Он, честно говор��, заебал уже всё правильно понимать, думает Юра, спускаясь рукой всё ниже. Он как-то упустил момент, когда Ибо оказался без одежды, он трогает его впервые и, надо сказать, Юра впечатлён.
И в замешательстве. Он представляет ЭТО внутри себя со смесью ужаса и азарта. Ужас пока что побеждает.
— Я сейчас сделаю тебе охуенно, прости за каламбур.
Ван Ибо ржёт и открывает глаза. Смотрит на Юру таким взглядом, от которого всё снова звереет. Он проглатывает это ощущение. Облизывает ладонь целиком, от запястья, с удовольствием слушая, как Ибо роняет свой стон в подушку. А ведь Плисецкий ещё даже толком не притронулся. Просто подготовил ладонь.
Он обхватывает Ибо одной рукой, другой — решительно выкидывает подушку вслед первой, и очень выразительно произносит:
— Моё, понял?
Ван Ибо очень понятливый. Самый лучший. И такой честный, что Юра захлёбывается им. У него снова стоит, это какой-то полный вперёд, он отвлекается и притирается тоже, потому что смотреть и слушать с каменной рожей просто за гранью человеческих способностей.
А потом Ибо что-то кричит, на своём, растекаясь в его руках, и Юра финиширует следом.
Он дышит громко, со звуком, как после интервальной, расслабленный сразу везде, в голове пусто, и разноцветные пятна плывут в тихом, умиротворяющем темпе.
— Расскажешь, что ты кричал?
Ван Ибо не отвечает. Хищно обнимает Юрку и загнанно дышит в лоб.
А потом отрубается почти моментально, а Плисецкий — нет. Долго смотрит в потолок, а потом на Ибо. На губы, которые только что целовал, на ресницы, которые беспокойно подрагивают. Волосы на подушке. Кисти рук, напряжённые, совсем не похожие на руки спящего человека.
Что-то большое внутри надламывается в трёх местах. Его потряхивает.
Плисецкий отворачивается.
Испепеляет глазами пустые зрачки потолка и гоняет на повторе одну и ту же мысль.
«Ну, чо допрыгался, космонавт? Доволен? Получил, чо хотел? Получил?»
Он крепко сжимает зубы, но подбородок все равно дрожит.
Осторожно поднимается на кровати, закусывает кулак и подходит к окну. Пальцами раздвигает жалюзи и тут же отдёргивает. Окно снаружи все ещё кажется живым. Все двигаются и вибрируют. Голодные, страшные, отвратительные.
Осталось ещё два дня. Целых два дня. Почему теперь так паршиво? Почему стало только хуже? Плисецкий не знает. Но он вроде как рад, что передатчик не фурычит. Что Ван Ибо не сможет спросить, а Плисецкому не надо ��удет отвечать.
Обратный отсчёт его добивает, и больше не хочется одному, когда можно — так.
Он долго мается с этой мыслью, но в итоге собирает себя в кулак, вытирает сопли и тащится обратно. Немного подумав, закидывает руку и всё-таки обнимает своё проклятье. Проклятье кряхтит, что-то бормочет и обнимает его в ответ.
***
За завтраком Плисецкий отрывается на все. Пока не видят взрослые, пока все озабочены катастрофой, он выбирает абсолютно все виды сосисок и победно приволакивает своё богатство за свободный стол. Ван Ибо пьёт чай и залипает в телефон. Интернет тянет по чайной ложке. На что он там пялится столько времени — вопрос. Хотя по правде, любопытство Юры очень вялое. Это буквально может быть что угодно. Это же Ван Ибо.
Кровожадно препарирует первую сосиску и с ужасом понимает: жирная. Не в смысле как же моя диета, а в смысле, уже так отвык, что на вкус очень странно. Он задумчиво жуёт и пялится. Ибо похож на восковую статую, нос смешно блестит в этом желтом свете. Плисецкий пихает его ногой под столом.
— Чо такое лицо сложное? Компартия вызывает? — говорит он, кусая одну из сосисок и одновременно осознавая, что делает именно то, что делает, по соответствующей выразительной реакции Ван Ибо. — Ща, погоди, за бананом ещё сгоняю, а то недостаточно фаллическая пантомима, да?
Ван Ибо как хороший мальчик в общественных местах гогочет не очень громко, пинает Плисецкого под столом и делает страшные глаза. Плисецкий остаётся доволен. И за бананом не идёт.
—Так что там у тебя? — он находит, наконец, нож и решает для разнообразия им воспользоваться.
Ван Ибо почему-то мрачнеет.
Он открывает телефон с кучей китайского текста. Плисецкий не догоняет. Разбирает только цифры, похоже на авиабилеты.
— Ну, обратные билеты, — говорит. — И?
Вздыхая, Ван Ибо увеличивает дату и время.
— Да в смысле? Это законно вообще?
Ван Ибо неопределённо машет рукой и говорит:
— Да.
Да, законно, потому что форс-мажор. Да, законно, потому что большинство пассажиров оборвали все телефоны, чтобы их вывезли отсюда как можно скорее. Да, законно, потому что это единственный способ для компании не влететь на огромный иск от студии Ван Ибо за то, что он опоздает на свой проект.
Настроение моментально смывается в унитаз.
«Они меня обокрали», — Юра тупо пялится на гигантские дату и время, продолжая ожесточённо нарезать пустое пространство между двумя частями сосиски. Нож и тарелка скрипят с отвратительным звуком. Юра замечает это, только когда Ван Ибо останавливает движения его руки своей.
Плисецкий поднимает взгляд. Ван Ибо выглядит настолько спокойным, насколько Плисецкому хотелось бы раскрошить все в этой грёбаной столовой.
Действительно, чего убиваться-то, да?
Народу в Китае, он слышал, что дохуя. Каждый второй пускает на него слюни. Не пропадёт, в самом деле.
Ему вдруг делается нехорошо на стольких уровнях сразу, что он просто подрывается из-за стола и не произнося ни слова, широко размахивая руками, чешет в сторону выхода. На полдороги вспоминает, что на улицу нельзя, пока полностью не осядет облако химикатов. Поэтому разворачивается в сторону номера.
Хорошо, что передатчик не работает. Хорошо, что Ван Ибо не сможет спросить. Плисецкий бы предпочёл выстрелить себе в голову из дробовика дважды, чем что-то объяснять.
Ван Ибо нагоняет его на входе в номер.
Плохая новость в том, что Ван Ибо переводчик не требуется. Он обхватывает Плисецкого за плечи и разворачивает к себе лицом.
— Юра?
Плисецкий не даётся, выпутывается, но Ибо возвращает его обратно, прижимает к стене:
— Юра?
— Отъебись, а? Будь другом! — он дёргает плечом, освобождает руку, Ван Ибо носится глазами по его лицу, пытаясь понять, какого черта тут происходит. Плисецкий, наконец, поднимает взгляд, и тоже смотрит.
На, подавись, доволен?
На лице Ибо понимания не добавляется, Плисецкий чувствует, как рот непроизвольно кривится в привычной злобной усмешке. Он перестаёт дёргаться. Обмякает и сползает из слабеющей хватки по стене, на этот ёбаный мерзкий ковролин. И обхватывает колени руками. И прячет лицо.
— Юра?
Ну, что Юра? Что ты мне Юркаешь? Что ты хочешь, чтобы я сказал? Как я все это ненавижу? Как мне было до тебя нормально, и как теперь — кишками наружу, хоть вешайся? Или может — ещё лучше — может, в ноги тебе упасть и попросить бросить свой ёбаный Китай, свои ёбаные проекты, переехать ко мне, в мой вонючий Питер, смотреть «танцы на тнт» и в доту лабать после тренировок?
Юра думает последнюю мысль почти весело, с каким-то даже удовольствием, типа, зацените, болезного, во даёт, губу раскатал.
Ван Ибо опускается рядом с ним на пол, садится по-турецки напротив и заглядывает в лицо. Кто-то воет внутри на дурной и осипшей ноте:
«Не бросай меня, а? Хоть ты не бросай?».
Он почти произносит это вслух, громко сморкаясь, так что закладывает оба уха, но в последний момент передумывает.
«Ну, почему ты такое ссыкло, Плисецкий?».
Ему не надо себе отвечать. Он это отлично усвоил из опыта. Потому что его никто и никогда не выбирает, если есть из чего выбирать. Он никому не нужен, когда не вгрызается в своё зубами и когтями.
Заебался цепляться, зебался доказывать.
Хоть бы кто-то. Хотя бы раз.
«Себе-то не ври».
Ничего из этого он, конечно, вслух не говорит. Не маленький вроде. За приоритеты шарит прекрасно.
— Звиняй, — выдаёт он в итоге, голос кажется сиплым и чужим. — Ненавижу ебучие братвурсты, вечно сначала нажрусь, а потом неделями сгоняю. Ну, сам понимаешь.
Ван Ибо хмыкает и подвигается ближе. Обнимает лицо своими огромными ладонями. Большими пальцами невесомо вытирает мокрое.
К горлу снова подкатывает. Юра закусывает щеку изнутри до металлического привкуса и думает:
«Я сейчас вскроюсь прямо тут. Завязывай, а?».
Ван Ибо легко тыкается в губы. Поцелуй солёный и вязкий. Плисецкий чувствует себя последним кретином, потому что какого-то чёрта эффект у ��того поцелуя ровно противоположный успокоительному. Невпопад в голове всплывает выражение «ебать и плакать», так вот оно как, оказывается. Он переполняется каким-то истерическим весельем, и думает:
«Похуй. Зубами так зубами. Когтями так когтями. Моё. Не отдам».
Ван Ибо касается пальцами его уха, бережно, и засовывает внутрь что-то тёплое. Плисецкий не успевает возмутиться: он слышит сигналы калибровки, и сразу понимает всё.
— Плисец, — говорит Ибо в одно ухо, передатчик металлическим эхом вторит ему как будто в самом центре его бедной тупой башки. — Ты веришь мне?
И смотрит внимательно. И гладит лицо. Плисецкий думает «ты тупой что ли, я никому не верю, все заебали, все постоянно подводят».
И в следующую секунду понимает, что это херня.
Ибо — не все.
Голос охрипший, не слушается. Юра прокашливается несколько раз, с силой протирает лицо ладонями и говорит, уже нормально:
— Верю.
— Тогда не сомневайся, — Ван Ибо простой как песня без куплетов.
Юра ржёт. Не сомневайся, говорит, братан, нормально всё будет. Но говорит с так, как будто каждое слово обладает волшебной силой. И почему-то очень хочется верить. В Китае, наверняка, за контракты на рекламу с ним агентства устраивают кровавые бойни.
И правильно устраивают. Он это заслужил.
Плисецкий хочет почувствовать обиду, что надо делиться. Хочет почувствовать жалость к себе. Ни одно из этих чувств не приходит. На месте старого поломанного в трёх местах срастается что-то новое. Что-то похожее на благодарность.
Он не знает, как сказать. Вроде и передатчик есть — говори не хочу. Передатчик-то есть, а слова правильные — это совсем другое.
— Без тебя было как тупыми лезвиями по песку, — поясняет он, зыркая из-под чёлки, слова неуютные и не по размеру, но держаться внутри не хотят. — Не ��дешь, а тащишься, как придурок, спотыкаешься вечно, звук отвратительный, но вроде двигаешься, да? Медальки там всякие. Классно? А с тобой, я фиг знает, как будто все цветным стало, понимаешь?
Ван Ибо опять слушает его с этим своим серьёзным видом, от которого Плисецкий постоянно про себя орёт дурным голосом, чтоб перестал.
И на этот раз Ван Ибо, как по заказу, перестаёт. Ржёт куда-то в ворот в своей футболки. А потом говорит:
— Юра.
И добавляет:
— Я тебя тоже.
***
Плисецкий утыкается лицом в подушку, обхватывает её обеими руками в воинственной честной попытке задушиться к херам, потому что, честно говоря, нахуй так жить. Между простыней и наволочкой он натыкается на что-то ещё и вспоминает, что футболку-таки скоммуниздил. Да так ловко, что даже совесть не мучила. Он гладит её пальцами.
Поднимается на кровати и жадно вглядывается в темноту. Блэкаут полнейший, не видно ни хуищи. Но это и к лучшему, наверное. И так едет крыша. Он опускает голову к коленям и кладёт руку себе на шею. Как он тогда. Получается вообще не похоже. Ладонь мелкая, холодная. Неубедительно. Два за технику, три за артистизм, ржёт он про себя чёрным невесёлым смехом.
Сидит и мнёт футболку в руках, как придурок. Всматривается в эту сверхплотную темноту и ему на секунду кажется, что с противоположной кровати этот тоже смотрит.
Нет там никого. И ещё очень долго не будет.
После Кубы было херово. Прямо херово, как мог бы чувствовать себя кусок злого мяса, которое забыли убрать в холодильник: внутри кишат паразиты, а вонь отпугивает окружающих.
Плохо было. Расстояние делало хуже. Редкие набеги в мессенджеры делали хуже. Всё это время Плисецкого заботил только один вопрос, который ему не хватало яиц задать.
«Мы когда-нибудь ещё увидимся?»
Поэтому когда Ван Ибо позвал сюда, Плисецкий не думал вообще. Самое лёгкое «да» в его жизни. Самое долгожданное.
Зато в этот раз он не просто не зассал. Плисецкий взял слово, буквально с боем, что они обязательно встретятся.
Ван Ибо посмотрел как-то странно и сказал, что конечно. Что за вопросы? Очевидно же, что да.
И Юра рассказал.
Что пока он сходил с ума в первый раз, он кое-что понял.
— Мы из разных вселенных, понимаешь?
Ван Ибо не понимал.
— У меня вечные проблемы с пространством, а у тебя — со временем. Меня постоянно разрывает среди точек на карте между теми, кому до меня нет дела. Твоё время распродано среди тех, кто по-настоящему тебя не ценит. И где-то среди этих двух невозможностей находится твоё «конечно, что за вопрос».
— Пообещай! — потребовал Юра
И Ван Ибо пообещал.
***
Третья порция молока превращает процесс размешивания теста для блинов в настоящий праздник по сравнению с тем, что было до. Но Юрка не расслабляется, перемешивает всё с тем же усердием, с той же скоростью. Посреди пустой головы проезжается безвоздушная мысль, что надо добавить масло, вечно забывает, но только не в этот раз. Он тянется к ящику. Роста всё ещё не хватает, поэтому он в очередной раз не достаёт. Долго сердито пристраивает вилку, отбегает на секунду и слышит ровно два звука: металлический шелест и влажный шлепок.
Он больше не торопится. Вилка утонула в тесте, придётся лезть пальцами. Кастрюля слишком большая, а вилка обычная. Но кажется маленькой и беспомощной. Ему делается горячо под веками. И как-то неудобно. Ну, утонула вилка и утонула, сейчас достанем, чего рыдать-то?
Он утыкается переносицей в изгиб локтя и с чувством протирает лицо.
Почему-то он вспоминает о немцах.
О том, как они иногда шлют приглашения что-нибудь там открыть и поддержать. Всё в электронном виде. У Юрки на них стоит автоответ: дескать, спасибо, ценю, польщён, сами-то как, к сожалению, беспощадный график, а вам всего лучшего, удачи, здоровья, всех благ.
Вообще, он бы с удовольствием скатался разок-другой. Но правда в том, что очень страшно однажды превратиться в памятник самому себе, в чувака, который единственный раз сделал что-то нормальное и ездит на этом до конца жизни.
Дед иногда зачитывает ему письма, которые приходят с Кубы. Сам Юрка никогда не читает, а деду, кажется, нравится. И письма нравятся, и испанский нравится, и Клавдия Антоновна, которая взялась его обучать, тоже, кажется, пришлась по душе. Ну, и хорошо, что у него здесь кто-то появился, Юрка этому рад. У него теперь тоже есть. Любимое дело (и даже два!) и кто-то близкий, пусть и далеко.
Накатывает иногда, конечно, вот как сейчас, но в этот раз легче. Легче, когда знаешь, что ему не похуй. Что он там тоже, наверное, думает. Тоже скучает. С кем-то болтает и запоминает самое лучшее, что надо будет рассказать, а потом рассказывает, когда появляется время.
И хочется вроде разозлиться, что не жизнь это, а херня какая-то поставленная на паузу. Но с ним всё равно лучше, чем без него. Как будто всё не зря было. Разбитые коленки, кровь и пот, нервы расшатанные. Как будто все решения, которые он принимал, были нужны, чтобы оказаться здесь: в этой тесной кухоньке, не вмещающей его тоску, с утонувшей вилкой, и чувством, что ты там кому-то нужен. И кто-то очень сильно нужен тебе.
В четвёртом часу пиликает телефон, Юра продирает глаза почти сразу. В ночном режиме исключений всего два. Второе — в лице деда — благополучно дрыхнет в соседней комнате.
От Ибо висит единственная фотка.
Юра долго рассматривает и думает:
«Боже правый, охренеть, это вообще где?»
Он пишет, что Это Вайсензее, в Австрии. Самый большой каток, шесть с половиной квадратных километров. Горнолыжка тоже в наличии. Что отпуск уже через две недели и хорошо бы, наконец, определиться.
Плисецкий вдруг думает глупую сентиментальную мысль. Что мир такой огромный. Что жизнь такая странная. Что он видел недавно пару отличных коньков, и какой же дурак, что засомневался и не взял. Что пора украшать дом к Новому году, а то они с дедом в этот раз потратили уже все сроки. Что Ибо, скорее всего, тоже задарит ему какую-нибудь снарягу. Он почти уверен, что сноубордическую.
Ван Ибо продолжает строчить. Присылает фотки со съёмок и комментирует те, что Юрка наприсылал за день.
Юра не перебивает. Он вчитывается, с нежностью проводя пальцем по каждому из сообщений. Дотошно рассматривает каждую из фотографий, сделанных лично для него. А потом пишет, что Вассензее звучит отлично, и завтра берём билеты. Пишет недовольное, что Ибо мог бы нафоткать и побольше. Пишет, что постоянно думает о нём и скучает. Что крайние две недели всегда самые паршивые, но они обязательно со всем справятся.
— Я тоже, — пишет Ван Ибо. — Ты даже себе не представляешь.
А Плисецкий берёт и представляет. Потому что у него также. Также плохо и хорошо. Но когда понимаешь, что вас ��аких двое, становится чуточку легче.
Он подходит к окну и прикладывает ладонь к стеклу. Оно ледяное, а руки у Ван Ибо обычно горячие. По контуру пальцев пробивается ржавый свет фонарей. Юра делает быструю фотку, кривую и немного зернистую, а потом скидывает в чат. Через секунды Ван Ибо присылает такую же.
Юра улыбается. И, засыпая, чувствует, как его чёрная, истлевшая до золы тоска, наконец, измученно отступает перед рассветом.
2 notes
·
View notes
Text
Сара, золотце мое, ты куда собираешься? - Анекдоты
Сара, золотце мое, ты куда собираешься? – Анекдоты
Сема спрашивает у папы: — Папа, как правильно пишется: фликончик или флякончик? — Семочка, ни так и ни так, а пизурок. ******* Одесская библиотека: — Дайте жалобную книгу! — «Му-му» подойдет? Или еще жалобнее? ******* Одесса. Пляж. Софочка: — Молодой человек, заберите таки взад свои мысли от моего тела! И не смотрите на меня своими наглыми женатыми глазами! ******* — Сара, золотце мое, ты куда…

View On WordPress
#Анекдоты#Анекдоты из Одессы#Анекдоты про евреев#Еврейские анекдоты#Еврейский юмор#Одесский юмор#Юмор
0 notes
Text
Дайте жалобную книгу! Или "Одно окно" на портале госуслуг

Люди жаловались во все времена и продолжают жаловаться. В былые времена жалобы носили письменный характер на бумажном носителе ( хотя и сегодня это имеет место быть) в виде жалобной книге, а в настоящее время – в век технологий и интернета, претензии пишут онлайн. Проще говоря, изменилась только ... https://news1.ru/archives/54740
0 notes
Video
youtube
Дайте жалобную книгу Игровой анонс Утро России 11.09.2020
0 notes
Link
Hiperprof смотреть фильмы и сериалы онлайн
0 notes
Photo

Лариса Голубкина: народная артистка РСФСР, которая сама себя называет актрисой одной роли
9 марта празднует свое 77-летие актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Самыми яркими и запоминающимися ее образами были роли в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и др. Пик ее популярности пришелся на 1960-1970-е гг., тогда же она вышла замуж за Андрея Миронова, с которым прожила 14 лет. После этого актриса не выходила замуж. О причинах этого, как и о других личных тайнах, она говорит редко.
0 notes
Text
Кино: Тайны Ларисы Голубкиной: из-за чего актрису преследовали девушки, и почему после смерти Миронова она осталась одна
9 марта празднует свое 77-летие актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Самыми яркими и запоминающимися ее образами были роли в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и др. Пик ее популярности пришелся на 1960-1970-е гг., тогда же она вышла замуж за Андрея Миронова, с которым прожила 14 лет. После этого актриса не выходила замуж. О причинах этого, как и о других личных тайнах, она говорит редко. Подробнее.. http://www.kulturologia.ru/blogs/090317/33741/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=tumblr
0 notes
Text
New Post has been published on News Today
New Post has been published on http://111novosti.tk/vystavka-ottepel-v-tretyakovke-porazila-masshtabom/
Выставка "Оттепель" в Третьяковке поразила масштабом
«Оттепель» началась! Третьяковская галерея настолько основательно — 3,5 года — готовилась к этой выставке, что заказала даже соответствующую погоду. На дворе — вешние воды, а в залах, как и тогда, в 1953–1968 годах, подтаивают льдины тоталитаризма и дорогу себе пробивают ручьи обновления. Именно вода как символ изменчивости стала центральным образом проекта.
В центре зала хотели установить бассейн, но не вышло по техническим причинам. Зато получилось собрать из 23 (рекорд для галереи!) музеев и 11 частных коллекций почти 500 экспонатов. Дело, конечно, не в количестве (во времена «оттепели» на выставках и по 3000 картин показывали), а в качестве вещей и их грамотной развеске. Кураторы экспозиции во главе с Кириллом Светляковым ненавязчиво и комфортно для глаза умудрились разместить примерно равное количество живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, фотографии, фрагментов кино, документов, предметов быта…
Тон диалога, а «оттепель» прежде всего отличалась возможностью дискутировать, задают при входе в экспозиционный зал. На трехметровом экране параллельно прокручивают перформансы из фрагментов знаковых для своего времени фильмов: «Приходите завтра», «Дайте жалобную книгу» и «Шумный день». Скульптор (Папанов) разбивает свои произведения, Табаков шашкой рубит мещанскую мебель, а студент-архитектор отказывается от старых макетов.
Казалось бы, дальше должен возникнуть дивный новый мир, но организаторы играют на контрасте и отправляют нас в мрачный коридор. Это один из семи тематических разделов выставки, получивший название «Разговор с отцом», где речь идет о возникшей возможности узнать правду о войне и лагерях. Отсюда — бронзовые воины Неизвестного и Сидура, портрет Шаламова, кадры из спектакля «Мой бедный Марат» в режиссуре Анатолия Эфроса, где очаровательная Ольга Яковлева наливает в стакан воду Александру Збруеву. Здесь же громоздится бюст Солженицына, в котором скульптор Нисс-Гольдман отразил разочарование писателя, незаслуженно отсидевшего восемь лет в лагерях.
Может, дело в черном коридоре? В следующем белом пространстве Солженицын на фото, вполне жизнерадостный, мокнет под дождем у двери «Нового мира», где Твардовский по личной рекомендации Хрущева опубликовал «Один день Ивана Денисовича». Здесь, в зоне «Лучший город земли», почти все радостные: на полотнах, фотокарточках, плакатах, экране… Смеются Любимов, Ростропович, Магомаев, хохочет Михалков, шагая по мокрой Москве и юркая между однотипными домами.
Масштабы массовой хрущевской застройки ощущаются с центральной точки экспозиции — площади Маяковского. Отсюда открывается архитектурное решение Владимира Плотникова — строительство выставки по формуле города с радиально-кольцевой системой. Стройные дорожки разделяют десятки однотипных стен и стеллажей, напоминающих хрущевки. Все в ч/б: вслед за Неизвестным и его знаменитой скульптуро�� дизайнеры решили передать дуализм эпохи.
Одни наслаждаются комфортом в модернизированном жилом квартале Новые Черемушки, пьют чаи из сервизов Ленинградского фарфорового завода, пользуются пылесосами «Сатурн» и тканями морских оттенков ситценабивной фабрики. Одеваются в элегантные наряды Зайцева, а за зонтами и иными аксессуарами ходят в ГУМ, который предоставил редкие кадры своих витрин тех лет. В отпуск веселятся на Черноморском побережье, о чем свидетельствует яркая керамическая серия скульптора Ольги Рапай.
В это время другие, типа Рабина и Кабакова, гоняют тараканов и мух в коммуналках и бараках. Возятся в грязи, прокладывая железную дорогу и строя очередные многоэтажки, как на картине Пименова. Осваивают целину, возводят Братскую ГЭС, добывают нефть на Севере, при этом недоедают, недосыпают, моются в морской воде. Все это запечатлели художники сурового стиля: Салахов, Андронов, Павлов… Через нарочитую грубость они передали правду времени.
А оно было таково, что СССР соревновался с США почти во всем: от вооружения и освоения космического пространства до архитектуры. Тогда на месте храма Христа Спасителя построили бассейн и начали возводить кинотеатры с подиумами для международных фестивалей. А строительством широких проспектов вообще хотели не только утереть нос нью-йоркским авеню, но и вписаться в глобальную географию. Как и получилось с Новым Арбатом, который стал побратимом главной улицы тоже послевоенного Рио.
Выставка через плакаты, графику, архивные документы передает все это без наценок и скидок. Хотя некоторые арт-критики обвинили Третьяковку в отбеливании и частичном искажении действительности. Конечно, легко судить тем, кто не жил в «оттепель». Ее же очевидцы (Таир Салахов, Зоя Богуславская, Мариетта Чудакова и другие), пришедшие на вернисаж, одобрили проект в первую очередь за объективность. И это говорит о многом.
Источник
0 notes
Text
Ценники и публичная оферта
Очень часто можно встретить ситуацию, когда вам на кассе сообщают, что мол извините новое поступление товара еще не успели заменить ценники и товар стоит дороже (заметьте у меня вот не было еще ни разу, чтобы товар стоил дешевле). kulibin_d в У меня просто нет слов... привел весьма интересную информацию, о которой я раньше даже и не задумывался. Ведь действительно ценник признается публичной офертой и отказ продать товар по цене указанной в ценн��ке может привести к жалобе на магазин и штрафу. Юридически есть два подхода к определению с точки зрения закона: 1) Закон "О защите прав потребителей" - статья 10. в п. 1 - говорится об обязанности производителя / продавца предоставить своевременно достоверную информацию; в п 2. явно даже прописано, что в эту информацию входит цена которая должна быть предоставлена потребителю. (1*) 2) В ГК РФ в статьях: ст.437 "Приглашение делать оферты. Публичная оферта" дается понятие "Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении." - т.е. если на ценнике не написано, что цена не является публичной офертой (а это сверх маловероятно), то дальше потребитель дает акцепт (согласие на оферту) по статье 438. "Акцепт". Согласно ст.433 договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта - т.е. когда магазин получил согласие покупателя купить товар по цене в ценнике. (2*) Если вы покупатель и вам отказались продать товар по цене в ценнике и если вам не лень и есть время: 1) Забираете чек, возвращаетесь и делаете фото чека рядом с ценником, еще рекомендуют чтобы часы в кадре были. 2) Подробно описываете данную ситуацию в книге жалоб и предложений (тоже можете сделать фото, некоторые магазины кстати вырывают эти записи или заменяют книги). 3) Идете и пишите заявление в местном отделение Роспотребнадзора, составленное, безусловно, в двух экземплярах и с приложенными фотографиями. В идеале магазин оштрафуют, и у вас будет возможность судится дальше, на практике думаю того, что магазин оштрафовали вам будет достаточно ибо судится из-за пары рублей вряд ли у вас будет желание. Если вы владелец магазина: Как вариант указать на ценнике, что цена не является публичной офертой, хотя от ст.10 ЗоЗПП вас это не спасет. Тогда нужно делать выкладку товара или до начала работы магазина или после, или предусмотреть мобильные терминалы, в которых работники будут делать отметку о смене цены товара прямо в режиме онлайн сразу после выкладки товара на полку. Источник: 1* - Закон "О защите прав потребителей" ст. 10 2* - ГК РФ Глава 28. Заключение договора
3 notes
·
View notes
Text
«Со слезой…»
Георгий Вицин в фильме «Дайте жалобную книгу», 1964
1 note
·
View note